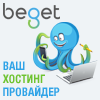Сделаем выводы. Главной особенностью акмеистического типа субъектности, по нашим наблюдениям, становится развитие таких ее форм, которые отражают процесс воздействия времени, эпохи на человека; субъект воплощается в акмеистической поэзии в «историзированной» ипостаси.
Сделаем выводы. Главной особенностью акмеистического типа субъектности, по нашим наблюдениям, становится развитие таких ее форм, которые отражают процесс воздействия времени, эпохи на человека; субъект воплощается в акмеистической поэзии в «историзированной» ипостаси.
Реализацией такой историзированной формы субъекта является разомкнутая структура, в которой «я» предстает в соотнесенности: 1) с «другим»; 2) с окружающим миром.
В результате размыкания субъектной структуры происходит усиление диалогичности в акмеистическом тексте, формируются синтетические формы субъектности по модели «я/мы», реализующей программную для акмеизма идею «общей судьбы», а также изменяется положение субъекта по отношению к общей картине мира, в которой субъектная область теперь, по сравнению с символизмом, заметно редуцируется.
Вследствие такой редукции субъектной сферы общая картина мира в акмеизме объективируется, а в семантике субъектных форм на видное место выдвигается идея маргинальности.
В целом все указанные особенности акмеистической субъектности подчинены одной из базовых установок акмеизма – установке на поиск равновесного состояния между человеком и миром. Регулирующими началами при этом выступают, прежде всего, религиозно-этические ценности, которыми обеспечивается сохранение ценностных оснований поэтического мира при редукции субъекта.
В современной поэзии связь с акмеистами прослеживается в таких поэтических системах, в которых также сохраняется ценностно акцентированная картина мира при редуцированной субъектной сфере. Такое аналогичное акмеистической «соразмерности» соотношение между субъектом, миром и словом, понятым как самостоятельно действующее начало бытия, выявляется в поэзии И. Бродского, Б. Кенжеева, Л. Лосева, но у современных поэтов, в отличие от акмеистов, на первый план выдвигается понятие языка.
Развиваются в художественном мире современных поэтов и такие наметившиеся в акмеизме особенности субъектности, как маргинальность, осуществленная в рамках религиозного мироотношения, а также художественная концептуализация своей «документальной идентичности», способствовавшая актуализации начала историзма в субъектной сфере. Но если в позднеакмеистической поэзии обращение к формам внешней (социальной) идентичности было отмечено пафосом разделения общей трагической судьбы, всенародных испытаний и, в пределе, гибели «гурьбой и гуртом», то в современной поэзии оперирование формами документальной идентичности создает многослойную, внутренне диалогичную субъектную структуру, так что в целом «я» поэзии формируется как равнодействующая между «внутренним я» поэта и многообразными вариантами его «внешнего я».
Таким образом, современная поэзия продолжает плодотворно применять принципы субъектной организации, присущие акмеизму, но порождает на их основе функционально отличные от акмеистических формы субъектности.
Автор: Т.А. Пахарева