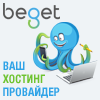Определенная филологическая маркированность отличает и индивидуальную поэтическую мифологию Лосева. Так, среди его излюбленных объектов поэтической рефлексии и мифологизации – персонажи и события, вошедшие в историю литературы. Например, в его индивидуальной мифологии заметное место занимает образ, который условно можно назвать образом «литературного ада», который выстраивается, в частности, в таких стихотворениях, как «Вплоть до ада», «31 октября 1958 года» и «День писателя». В первом из них в иерархии адских казней самая тяжкая ждет «тех, кто в Елабуге // деньжат не подбросил, еды не принес» [Лосев Л. Собранное: Стихи. Проза. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000. – 624 с., с. 71].
Во втором поэт размышляет о тоскливом, как неподвижная вокзальная очередь «между грязных колонн» [Лосев Л. Собранное: Стихи. Проза. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000. – 624 с., с. 236] (здесь, кстати, Лосев «переадресовал» пастернаковский «талон на место у колонн» его гонителям и предателям цехового писательского братства), потустороннем будущем тех писателей, которые приняли участие в травле Пастернака (31 октября 1958 года – это дата того собрания московских писателей, результатом которого стала резолюция с требованием изгнать Пастернака из СССР). Наконец, в третьем из названных стихотворений путь писателя в ад, собственно, и обрисован как путь коллаборациониста, перебежчика из пространства «ворованного воздуха» в изобилующее земными благами предательское пространство «разрешенной» литературы («Уж как везло! Уж так везло! // Он в общем знал, что это зло, // но бес, щекочущий в ребро, // шептал: ништяк, добро, добро!» [Лосев Л. Собранное: Стихи. Проза. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000. – 624 с., с. 313]).
Другие примеры поэтической и одновременно филологической рефлексии Лосева над персонажами и событиями словесности – это и написанные вслед мандельштамовским «Стихам о русской поэзии» «Выписки из русской поэзии», и насквозь литературный образ Петербурга, сотканный из мотивов и персонажей Серебряного века, в стихотворении «ПБГ», название которого самим автором расшифровывается в подстрочной сноске не просто как аббревиатура названия города, а как анаграмма «Поэмы без героя». Расшифровка загадки героя ахматовской поэмы подобным образом положена в основу не только этого стихотворения, но и статьи Л. Лосева «Герой «Поэмы без героя» [Лосев Л. Герой «Поэмы без героя» // Ахматовский сборник. 1. – Париж. Институт славяноведения, 1989.], так что в вышеупомянутом стихотворении граница между филологическим текстом и текстом поэтическим становится прозрачно-проницаемой до полного метатекстуального слияния первого со вторым. Филологическая рефлексия по поводу историко-литературных фактов и персонажей становится в художественном мире Лосева способом символического «присвоения» этих персонажей и событий. Так возникает не только сотканный из «серебряновековых» аллюзий лосевский ПБГ, но и, например, «свой собственный», лосевский Маяковский в стихотворении «Юбилейное», который «трогает, рифмой звеня, // игрушечным ножичком Бога, // испуганным взглядом меня» [Лосев Л. Собранное: Стихи. Проза. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000. – 624 с., с. 287].
Такому же филологическому и одновременно интимно «присваивающему» переосмыслению подвергаются в других стихах Лосева почерк Достоевского или Пушкинские места в одноименных стихотворениях, а визит к Пастернаку, описанный в стихотворении «30 января 1956 года», предстает моментом посвящения в поэты, поэтической инициации и, следовательно, ключевым событием всей индивидуальной поэтической мифологии Лосева:
Все, что я помню, – день ледяной,
голос, звучащий на грани рыданий,
рой оправданий, преданий, страданий,
день, меня смявший и сделавший мной [Лосев Л. Собранное: Стихи. Проза. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000. – 624 с., с. 272].
Отметим попутно, что это стихотворение продолжает значимый для акмеистов и убедительно разработанный в их поэзии мотив «передачи лиры», поэтического ученичества (см., например, ахматовские и гумилевские посвящения Анненскому); этот мотив в современной поэзии в интонации, близкой интонации лосевского стихотворения, звучит и у Е. Рейна в стихотворении «В последний раз», посвященном встрече с Ахматовой.
Автор: Т.А. Пахарева