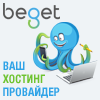В сегодняшней не только интеллектуальной, но и художественной ситуации, во многом повторяющей и игровые особенности, и тотальный релятивизм эпохи символизма, акмеистическая позиция сохранения ценностной иерархии, осознанная как жизненная необходимость, творчески возрождается в некоем «новом консерватизме», прежде всего, в творчестве Т. Кибирова. Об этой черте его творчества как существенно определяющей роль Кибирова в современном культурном пространстве, в частности, говорит В. Шубинский: «Тенденция к здоровому нравственному консерватизму пробивает себе дорогу в поэзии. Еще накануне кризиса усталость широкого читателя от цинической зауми московской элиты почувствовал и выразил народный бард Тимур Кибиров. Грубую гедонистическую буржуазность времен первоначального накопления сменяет «протестантская этика»…» [Эйхенбаум Б. М. Анна Ахматова. Опыт анализа. // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. – Л.: Советский писатель (Лен. отд.), 1969., с. 308].
Специфику позиции Кибирова в постмодернистском культурном контексте точно определил и С. Гандлевский: «Поэтическая доблесть Кибирова состоит в том, что он одним из первых почувствовал, как провинциальна и смехотворна стала поза поэта-беззаконника. Потому что греза осуществилась, поэтический мятеж, изменившись до неузнаваемости, давно у власти, «всемирный запой» стал повсеместным образом жизни и оказалось, что жить так нельзя. Кибиров остро ощутил родство декадентства и хулиганства. Воинствующий антиромантизм Кибирова объясняется тем, что ему стало ясно: не призывать к вольнице впору сейчас поэту, а быть блюстителем порядка и благонравия. Потому что поэт связан хотя бы законами гармонии, а правнук некогда соблазненного поэтом обывателя уже вообще ничем не связан» [Гандлевский С. Порядок слов: стихи, повесть, пьеса, эссе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000. – 432 с., с. 301 – 302].
Кибировский «воинствующий антиромантизм» определенным образом эволюционировал. Начинаясь как отталкивание от опасного своей деструктивностью пафоса «мирового пожара», по мере отхода коммунистического прошлого в историю он трансформировался в борьбу с постмодернизмом – при том, что часто литературными критиками и исследователями современной литературы (В. Курицын, И. Скоропанова) сам Кибиров относится к числу «постмодернистов». Его «пря с постмодернизмом» содержит два основных принципиальных положения: неприятие этического релятивизма, неизбежно порождаемого ценностным плюрализмом постмодернизма, и неприятие все тем же плюрализмом порожденного отказа от логоцентричного мировидения, традиционного для русской культуры. Причем в кибировском художественном мире эти две проблемы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Идея внеэтичности эстетики издавна у Кибирова интерпретировалась иронически и связывалась по преимуществу с юношеским «экстремистским» стремлением к «попиранью заветных святынь». Искусство же, не становящееся «по ту сторону добра и зла», – это то искусство, до которого нужно еще дорасти, как сказано в «Солнцедаре»: «Еле-еле // я до Пушкина позже дорос» [Кибиров Т. «Кто куда – а я в Россию…». – М.: Время, 2001. – 512 с., с. 259].
Аналогичным образом эстетизм ювенильного периода противопоставлен искусству, не выводящему за скобки этический критерий, в послании «Игорю Померанцеву. Летние размышления о судьбах изящной словесности»:
[Кибиров Т. «Кто куда – а я в Россию…». – М.: Время, 2001. – 512 с., с. 222].
Или в «Послании Ленке»:
…И каждый студентик
Литинститута здесь знает – искусство превыше морали.
На семинаре он так и врезает надменно: «Эстетика
выше морали бескрылой, мещанской!» И мудрый Ошанин,
мэтр седовласый, ведущий у них семинары, с улыбкой
доброю слушает и соглашается: «В общем-то, да».
В общем-то, да… Уж конечно… Но мы с тобой все-таки будем
Диккенса вслух перечитывать…
…Бог с ним, с де Садом [Кибиров Т. «Кто куда – а я в Россию…». – М.: Время, 2001. – 512 с., с. 155].
Искусственное, механическое, до абсурда буквально воспринятое как «руководство к действию» отделение этического критерия от эстетики, доведенное до логического предела, предстает у Кибирова в конце концов в виде саркастического гротеска:
Против поэтов на этой странице
филиппикой должен был я разразиться.
Но я предпочел процитировать просто
Кукина Мишу, Гадаева Костю:
«Убей жену, детей отдай в приют.
Минута – и стихи свободно потекут!»
Здорово! [Кибиров Т. «Кто куда – а я в Россию…». – М.: Время, 2001. – 512 с., с. 411].
В сущности, речь у Кибирова идет именно об искусственности отделения этики от эстетики, которой «грешил», по мнению поэта, и старый символизм, и новый постмодернизм. Развенчание мифа о тем большей эстетической убедительности произведения, чем менее в нем выражен этический критерий, происходит и в кибировском варианте заветов «юному поэту»: «И поклоняться искусству не надо. // Это уж вовсе последнее дело! // Экзюпери и Батая с де Садом, // перечитав, можешь выбросить смело» [Кибиров Т. «Кто куда – а я в Россию…». – М.: Время, 2001. – 512 с., с. 390].
Намеренно дразня снобистское чувство «продвинутого» молодого человека из «поколения П» казарменным зачином стихотворения «Кстати, еще о казарме…», Кибиров преподносит эту мысль и в более обобщенном виде – уже не для «юноши бледного, в печать выходящего», а для всего этого поколения – в виде простого тезиса:
…релятивизм, скептицизм,
и пессимизм, и цинизм
и т.д. и т.п.
не обязательно связаны
с высшим развитием
интеллекта
иль особенной тонкостью
нервов и чувств…
………………………………….
Так что Печорину нечем кичиться,
а Гриневу не стоит стесняться [Кибиров Т. «Кто куда – а я в Россию…». – М.: Время, 2001. – 512 с., с. 421].
Здесь, в большинстве процитированных примеров, проявленность этического начала связывается и с эстетически эталонными для Кибирова образцами – прежде всего, с творчеством Пушкина.
Таким образом, в кибировском творчестве «снимается» оппозиция «этика / эстетика» и в качестве актуальной ценностной оппозиции выдвигается противопоставление внеэтичного искусства и искусства, не отказывающегося от этического критерия, для «презрительного эстета» представляющегося слишком одномерным и «прагматичным», ставящим искусство на службу вне его самого находящимся началам. Напомним, что в свое время Гумилев также размышлял о двух типах искусства в статье «Жизнь стиха» и пришел к мысли, что если выбирать между тезисом «Искусство для искусства» или «Искусство для жизни», то во втором «больше уважения к искусству и понимания его сущности» [Гумилев Н. С. Соч.: В 3-х т. – М.: Худ. лит., 1991., т. 3, с. 8].
О наличии этического отношения к миру как черте, свойственной именно подлинному поэту, а не эпигону того или иного модного течения, пишет и С. Гандлевский: «Рутинеры реализма культивировали сострадание к народу и критику строя, рутинеры постмодернизма вменяют себе в обязанность имморализм, релятивизм, бесстрастность. А между тем настоящие поэты, например, Лосев и Цветков, умудряются каким-то образом совмещать одобряемую жрецами постмодернизма иронию, цитатность, игровое начало и литературную рефлексию с пребыванием по эту сторону добра и зла и неложным пафосом» [Гандлевский С. Порядок слов: стихи, повесть, пьеса, эссе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000. – 432 с., с. 338].
Таким образом, этическая тема плавно сливается с проблематикой, не только связанной с бытием в истории, но и с проблематикой эстетической, и шире – с осмыслением культуры, ее ценностного статуса в художественной картине мира акмеистов и поэтов сегодняшних дней, продолжающих акмеистическую линию в русской литературе.
Автор: Т.А. Пахарева