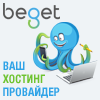Цепочка, соединяющая средневековую эстетику повествования о чудесном с акмеизмом, затем с современной метафизической поэзией и, наконец, с магическим реализмом, должна быть рассмотрена подробнее. Вяч. Вс. Иванов соотносил с фантастическим реализмом ахматовскую «Поэму без героя» [Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т.2. Статьи о русской литературе. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 880 с., т. 2, с. 249 – 253]; Гумилев называл метод В. Нарбута «галлюцинирующим реализмом» [Гумилев Н. С. Соч.: В 3-х т. – М.: Худ. лит., 1991., т.3, с. 108]; наконец, поздняя поэзия самого Гумилева – и, прежде всего, «Заблудившийся трамвай» – вписывается в ту же парадигму.
Представляется, что в восходящей к средневековой эстетике акмеистической традиции сопряжения чудесного с повседневным коренится зерно преодоления акмеистами и реализма, и символизма, и намечается прямая связь акмеистической поэтики как с фантастическим (магическим) реализмом в литературе ХХ в., так и с выходящим сегодня на важное место в литературном процессе «постреализмом».
Специфические обертоны средневековая культурная традиция получает в творчестве О. Мандельштама. Мысль о «физиологичности» духовной жизни средневековья была для него столь значима, что повторилась им дважды – вначале просто в качестве наблюдения в статье «Франсуа Виллон», а затем – уже в качестве концептуального основания акмеизма в статье «Утро акмеизма»: «Любовь к организму и организации акмеисты разделяют с физиологически-гениальным средневековьем» [Мандельштам О. Соч.: В 2-х т. – М.: Худ. лит., 1990., т. 2, с. 143 – 144].
Акмеистическая приверженность Мандельштама этой физиологической гениальности средневековья сказалась, разумеется, прежде всего, в его стихах об архитектуре – в «чудовищных ребрах» Нотр-Дама, в нежных дугах бровей, увиденных им в архитектуре Успенского собора, в уподоблении Казанского собора «крестовику-пауку» – одним словом, в постоянном стремлении реализовать в своей метафорике идею единства духовного и физического миров, природного и культурного начал, органической и неорганической материи.
Дальнейшее развитие этого стремления в идею органической поэтики, пространно изложенную Мандельштамом в «Разговоре о Данте», становится логическим следствием приверженности поэта «физиологизму» средневековья.
Идея органической поэтики находит в творчестве Мандельштама не только свое теоретическое определение, но и практическое воплощение в стихах. Уже неоднократно внимание исследователей привлекало то, что В. Н. Топоров назвал «психофизиологическим компонентом» поэзии Мандельштама, определив его как «глубинную зависимость между «психофизиологической» конструкцией творца и поэтикой текста, реализующей эту зависимость» [Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Избранные труды. – СПб.: Искусство – СПБ, 2003. – 616 с., с. 428].
Обостренным переживанием своей телесности, «органики», исследователь объясняет важность для поэзии Мандельштама «до-речевых» чувств и восприятий – слуха, обоняния, осязания [Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Избранные труды. – СПб.: Искусство – СПБ, 2003. – 616 с., с. 437], а также особую значимость «мотивов качания и дыхания, ритмообразующих структур, усвоенных, говоря в общем, до рождения» [Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Избранные труды. – СПб.: Искусство – СПБ, 2003. – 616 с., с. 439], и развившегося после 1916 г. мотива «задыхания» [Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Избранные труды. – СПб.: Искусство – СПБ, 2003. – 616 с., с. 440].
В унисон Топорову о важности в поэтике Мандельштама категории дыхания, которой определяется у него, в частности, длина строки, пишут Л. Я. Гинзбург [Гинзбург Л. Я. О лирике. – М.: Интрада, 1997 – 408 с., с. 349], К. Тарановский [Тарановский К. О поэзии и поэтике. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 432 с., с. 22], М.Ю. Лотман [Лотман М. Ю. Мандельштам и Пастернак (попытка контрастивной поэтики). – Таллинн: Aleksandra, 1996. – 176 с., с. 45].
Представляется, что все эти «физиологические» особенности мандельштамовской поэтики, прежде всего, и свидетельствуют о том, что в его творчестве органическая поэтика получила свое не менее органическое воплощение.
Главным же ее теоретическим обоснованием стал «Разговор о Данте». Принципиально «органический» подход к дантовской «Комедии» Мандельштам обнаруживает уже в исходной установке своего «Разговора…»: он яростно оспаривает «мистическое» восприятие этого текста, свойственное большинству его комментаторов (включая в их число и мистически воспринимающего Данте Блока) и настаивает на адекватности и продуктивности «естественнонаучного» понимания Данте [Мандельштам О. Соч.: В 2-х т. – М.: Худ. лит., 1990., т. 2, с. 227], всем текстом «Разговора…» обосновывая продуктивность такого подхода. Так, по отношению к структуре, к динамике образности «Божественной комедии», по отношению ко всем ключевым формально-содержательным ее параметрам Мандельштам постоянно употребляет терминологию естественных наук. Он говорит и о наличии в дантовском тексте «всех видов энергии» [Мандельштам О. Соч.: В 2-х т. – М.: Худ. лит., 1990., т. 2, с. 217], известных современной науке, и об «органической химии дантовской образности» [Там же, т. 2, с. 229], и об «инстинкте формообразования» [Там же, т. 2, с. 225] как основном конструктивном начале дантовской «Комедии», и об «органическом» по своей сути принципе метаморфозы, лежащем в основе развития любого образа у Данте [Там же, т. 2, с. 224, 229], и о физиологической деформированности фонетики в 32 песни «Ада» [Там же, т. 2, с. 243], и даже о связи «физического» уровня дантовского текста с уровнем идей: «Холодообразующая тяга тридцать второй песни произошла от внедрения физики в моральную идею: предательство – замороженная совесть – атараксия позора – абсолютный нуль» [Там же, т. 2, с. 244].
Необходимо заметить, что моменты следования принципам органической поэтики можно найти не только в стихах и прозе Мандельштама, но и в поэзии других акмеистов – начиная с Гумилева. Уже изначальное понимание Гумилевым природы поэзии близко подходит к «органическому» мировидению. Гумилев в своих статьях («Жизнь стиха», «Читатель», «Анатомия стихотворения») неустанно говорит о подобии между стихотворением и живым организмом: «Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов» [Гумилев Н. С. Соч.: В 3-х т. – М.: Худ. лит., 1991., т. 3, с. 9]; «прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни» [Там же, т. 3, с. 11]; «стихотворение, как Афина-Паллада, явившаяся из головы Зевеса, возникая из духа поэта, становится особым организмом. И, как всякий живой организм, оно имеет свою анатомию и физиологию» [Там же, т. 3, с. 24]; «стихотворение же – это живой организм, подлежащий рассмотрению и анатомическому, и физиологическому» [Там же, т. 3, с. 26].
Автор: Т.А. Пахарева