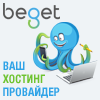Наконец, качественно новой функциональностью в «элегическом эпосе» Рейна наделяются приемы кинематографической поэтики. Усиление «кинематографичности» поэтического текста можно, по нашему мнению, связывать также с акмеистической поэтикой.
Безусловно, вся поэзия ХХ века так или иначе реагировала на стремительный взлет самого молодого из искусств: кинематографическая «монтажность» текстов Андрея Белого (оговоримся, что монтаж как таковой не квалифицируется нами как специфически кинематографический принцип; о развитии принципов монтажа в драматургии см., например, [Корзов Ю. И. Драматургическая поэтика Пушкина в контексте исканий русского и западноевропейского театра // А. С. Пушкин и проблемы мировой культуры: Рус. лит. Исследования: Сб. науч. тр. – Вып. I, т.1. – К.: Логос, 1999. – С. 31 – 38.]), многоаспектная связь с кинематографом поэтики футуристов – это уже аксиоматические истины, так что сам факт взаимодействия с киноэстетикой не является специфическим признаком ни одной из поэтических школ ХХ века. Не только акмеисты, но и символисты, и футуристы, и вся поэзия этого столетия испытала на себе чары этого «движущегося ребуса». Однако есть существенные отличия в восприятии каждым из главных поэтических течений начала века и киноэстетики, и кинореальности в целом. Этими отличиями обусловливается и разница в функциях элементов поэтики кино в творчестве поэтов-символистов, футуристов или акмеистов.
В системе миропонимания символизма кино часто становится аналогом неподлинной, «диаволической», фантомной реальности, частью «страшного мира» личин и безжизненных явлений, лишенных сущности, одной из форм «электрического сна наяву». Так, например, кино в стихотворении А. Блока «Искусство – ноша на плечах…» предстает именно метафорой обманчивости жизни: «в мурлыкающем нежном треске // Мигающего cinema» жизнь выглядит блестящей приманкой, хотя реальность таит в себе не осуществление блестящей мечты, а лишь «усталость» и повторение уже пережитых обольщений:
А через год – в чужой стране:
Усталость, город неизвестный,
Толпа – и вновь на полотне
Черты француженки прелестной!.. [Блок А. А. Собр. соч.: В 8-ми т. – Т.т. 1 – 8. – М.-Л.: ГИХЛ, 1960 – 1963, т. 3, с. 115]
Еще более выразительно частью блестящего, но неподлинного бытия кино предстает в стихотворении В. Брюсова «Электрические светы» 1913 г., в котором «современные поэты» становятся магами электрического мира, преображающего, как в кино, «всю ложь, всю мишуру, всю бренность» жизни:
Что было красочным и пестрым,
Меняя властным волшебством,
Мы делаем бесцветно-острым,
Живей и призрачней, чем днем [Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7-ми т. – Т.т. 2-3. – М.: Худ. лит., 1973-1974, т. 2, с. 165].
В той фантомной реальности, которой живет современный город, самое призрачное и признается самым живым. Мир «электрических светов» от начала до конца обращен в потусторонность, и ее лучшим выражением становится у Брюсова киноэкран: «И с нами – каждый на экране, // И, на экране кто, – мы с ним!» [Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7-ми т. – Т.т. 2-3. – М.: Худ. лит., 1973-1974, т. 2, 165]. Знаменательно, что пишет в 1927 г. о мифологии электрического света А. Ф. Лосев в «Диалектике мифа»: «Свет электрических лампочек есть мертвый, механический свет. Он не гипнотизирует, а только притупляет, огрубляет чувства. /…/ В нем нет благодати, а есть хамское самодовольство полузнания… Электрический свет – не интимен, не имеет третьего измерения, не индивидуален. В нем есть безразличие всего ко всему, вечная и неизменная плоскость… Электрическому свету далеко до бесовщины. Слишком он уж неинтересен для этого. Впрочем, это, быть может, та бесовская сила, про которую сказано, что она – скучища пренеприличная. Не страшно и не гадливо и даже не противно, а просто банально и скучно. Скука – вот подлинная сущность электрического света. /…/ Нельзя любить при электрическом свете; при нем можно только высматривать жертву. Нельзя молиться при электрическом свете, а можно только предъявлять вексель» [Лосев А. Ф. Из ранних произведений. – М.: Правда, 1990. – 656 с, с. 439 – 440].
Автор: Т.А. Пахарева