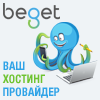Свойственный Бродскому ужас перед «племенем младым» не является к тому же особенностью только его индивидуального мирочувствования. Хоть этот ужас и вписывается в круг Бродскому свойственных мотивов (как это и выявляет А. Ранчин, см.: [Ранчин А. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – 464 с., с. 23 – 36]), но то же чувство можно найти и у Льва Лосева:
…Здравствуй, племя
младое, незнакомое.
Не дай
мне Бог увидеть твой могучий
возраст… [Лосев Л. Собранное: Стихи. Проза. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000. – 624 с., с. 29]
Абсолютно сходным образом и в гораздо более популярной, как это ему и присуще, форме, трактует проблему преемственности поколений и Кибиров:
Я был в Америке. Взбирался на небоскребы.
Я разговаривал с Бродским, и он научил меня, чтобы
я не подписывал книжки наискосок, потому
что это вульгарно и претенциозно. Ему самому
этот завет заповедала Анна Андревна когда-то.
Я, в свою очередь, это советую тоже, ребята.
Жалко, что если и дальше пойдет все своим чередом,
вам уже некому будет поведать о том [Кибиров Т. «Кто куда – а я в Россию…». – М.: Время, 2001. – 512 с., с. 376].
Еще более явно обреченность перед лицом всениспровергающего «поколения П» звучит в сборнике Кибирова «Шалатай-Болтай» – например, в стихотворении «Пироскаф»:
И поскольку все,
что я любил, что я хранил,
в чем сердце я похоронил,
сброшено с корабля
(или у футуристов «С парохода»?)
современности –
сигану-ка и я за борт!
Конечно, спасти никого не удастся,
но хотя бы недолго еще побарахтаюсь,
побуду в приличном обществе,
в роковом его просторе… [Кибиров Т. Шалтай-Болтай. Свободные стихи. – СПб.: Пушкинский фонд, 2002. – 56 с., с. 38]
Таким образом, и Бродский, и не он один среди современных поэтов оказываются в большой степени наследниками именно трагически неблагополучной ситуации с «наследством» и «сменой поколений», ситуации, в историческом опыте пройденной до них акмеистами.
Автор: Т.А. Пахарева