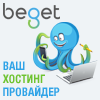В полной же мере идея памятника как памятника страданию в «Реквиеме» развертывается всем ходом лирического сюжета финального стихотворения «Эпилога» («Опять поминальный приблизился час…»). Сам пластический образ описанного в нем памятника тяготеет к образу Богородицы – не только вечному символу Матери, потерявшей Сына, но и всеобщей заступницы, печальницы обо всех страдальцах.
Пластическое сходство памятника в «Реквиеме» с фигурой Богородицы задано прежде всего глаголом, с помощью которого описывается и Дева Мария у креста, и героиня Ахматовой под Крестами: «стояла» («где молча Мать стояла» – «где стояла я триста часов»); явственно в выборе именно этого глагола присутствует и стремление напомнить о формуле «Stabat mater dolorosa». Ассоциацию с чудотворными статуями Богоматери, глаза которых источают некую влагу или кровь (в католическом мире эти «плачущие статуи» Богоматери являются одним из самых распространенных чудес), вызывает и деталь в описании у Ахматовой будущего памятника: «И пусть с неподвижных и бронзовых век, // Как слезы, струится подтаявший снег» [Ахматова А. Соч.: В 2-х т. – М.: Огонек, 1990., т. 1, с. 203]. В этом контексте воркование «вдали» тюремного голубя также неизбежно окрашивается религиозной символикой, так что в пространстве памяти и страдание матери, и жертва сына предстают катарсически преображенными.
Прежде чем «Реквием» приходит к катарсическому финалу, эмоциональное движение, сопровождающее развитие его основного конфликта, «конфликта между Смертью и Памятью» [Эткинд Е. Г. Русская поэзия ХХ века как единый процесс // Воп. лит. – М., 1988. – № 10. – С. 189 – 211, с. 362], развертывается как прохождение через отчаяние, внутреннее омертвение, безумие к прозрению, пониманию своего долга и преодолению безумия и смерти памятью. Вглядимся, каким образом в стихах «Реквиема» обозначены вышеперечисленные состояния и с помощью каких деталей текста эта психологическая динамика может быть прослежена.
Прежде всего, обратим внимание на определения состояний самой героини и ее «невольных подруг» по ходу развертывания основного конфликта «Реквиема». В «Посвящении» раньше всего названа некая безобъектная, всеобъемлющая «смертельная тоска», в которую равно погружены и жертвы, и окружающий их мир. Состояние же самих женщин из тюремной очереди рисуется как абсолютное «скорбное бесчувствие»: «мы не знаем», «шли…, мертвых бездыханней». Состояние героини первого стихотворения основной части текста задает основной эмоциональный тон всей этой части, исключая «Распятие». Этот тон можно определить как балансирование между равно безумными спокойным оцепенением и звериным отчаянием. Тоном перечисления, почти деловитого, сообщается о самом страшном событии – уводе арестованного из дому. И столь же «спокойно» – оцепенело – в финале предрекается будущее жены арестованного, полное отчаяния: «под кремлевскими башнями выть». Контраст между смыслом произносимых слов и спокойной перечислительной интонацией этого рассказа и задает общую эмоциональную амплитуду безумия в «Реквиеме» – от бесчувствия до звериного воя. «Тихо льется тихий Дон» продолжает и усиливает интонацию «скорбного бесчувствия» и вводит мотив «раздвоения» сознания героини: она одновременно и «эта женщина», некая женщина – и «я»: «Помолитесь обо мне». Это раздвоение на «она», «другая» и «я» продолжается в следующем стихотворении: «Нет, это не я, это кто-то другой страдает». Смятение и невозможность психологически справиться с ситуацией террора выражаются здесь в растерянной реплике: «Я бы так не могла». Эта интонация растерянности, неспособности осознать случившееся и адекватно на него реагировать продолжается в следующем стихотворении: в ретроспективно направленном отказе верить в происходящее. Здесь Ахматова использует разговорную конструкцию сослагательного наклонения («Показать бы тебе,… что случится с жизнью твоей»), в которой опущена формулировка следствия, предполагающегося после реализации сформулированного в первой части предложения условия («если бы тебе показать, что случится, то…»). Подразумеваемое следствие – это невозможность поверить в происходящее («если бы тебе показать, что случится, то ты не поверила бы»), неспособность рассудка вместить его в себя. Следующее стихотворение эту же ситуацию неспособности до конца осознать происходящее воспроизводит уже в интонации полного отчаяния («Семнадцать месяцев кричу», «Ты сын и ужас мой»). Среди этого отчаяния рассудок вновь оказывается бессилен: «Все перепуталось навек, // И мне не разобрать // Теперь, кто зверь, кто человек, // И долго ль казни ждать» [Ахматова А. Соч.: В 2-х т. – М.: Огонек, 1990., т. 1, с. 199]. Наконец, в следующем стихотворении после приступа отчаяния звучит интонация какого-то безумного отстранения от ситуации: «Легкие летят недели. //Что случилось, не пойму» [Ахматова А. Соч.: В 2-х т. – М.: Огонек, 1990, т. 1, с. 199]. Неожиданное определение страшных недель заключения сына – «легкие» – и формирует в первую очередь атмосферу безумия, неадекватной реакции на происходящее. Вместе с тем, этот неожиданный эпитет, как это часто происходит в семантической поэтике, сигнализирует о скрытом втором смысле. В данном случае этот смысл восстанавливается, если прочесть эти «легкие… недели» как цитату из стихотворения Н. Гумилева «Наступление»: «И залитые кровью недели // Ослепительны и легки» [Гумилев Н. С. Соч.: В 3-х т. – М.: Худ. лит., 1991, т. 1, с. 191]. Таким образом, и «легкие… недели» у Ахматовой могут прочитываться как «залитые кровью», и тогда их легкость выглядит вдвойне зловеще.
Автор: Т.А. Пахарева