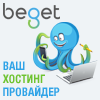Исходя из тезиса о сверхзначимости мандельштамовских принципов поэтики для творчества Кенжеева, обратимся к анализу тех особенностей субъектного строя его лирики, которые также позволяют говорить о близости кенжеевской поэтической системы не только поэзии Мандельштама, но и всей акмеистической парадигме.
Прежде всего, попытаемся проследить, в каком виде в поэзии Кенжеева представлено то соотношение между миром, словом и субъектом, которое в поэзии акмеизма эволюционировало, по нашему мнению, в сторону объективизма, предопределив как более «периферийное», чем в романтически-символистской традиции, положение субъекта по отношению к миру, так и придание языку статуса деятельной и автономной бытийственной силы, п отношению к которой субъект выступает ее «орудием».
В сущности, современное состояние этого обозначившегося уже в акмеизме смещения акцентов в картине мира от человека – к объективным началам бытия зафиксировано в книге М. Эпштейна о русском постмодернизме: «Поэзия Структуры приходит на смену поэзии Я. /…/ …на месте прежнего индивида множественность самодействующих форм бытия» [Эткинд Е. Г. Материя стиха. – СПб.: Гуманитарный союз, 1998. - 508 с., с. 131].
Разумеется, у Эпштейна речь идет уже о предельной редукции «я» в постмодернизме, выходящей за рамки акмеистической «меры» этого процесса, но общая логика переструктурирования отношений между «я» и миром в сторону «дегуманизации» здесь очевидным образом прослеживается (впрочем, видимо, корректнее говорить не о «дегуманизации», а о «постгуманизме» как не антропологическом, а универсальном гуманизме (см. об этом: [Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. – СПб.: Невский Простор, 2001. – 416 с., с. 29]).
В творчестве Кенжеева можно найти целый ряд текстов, также демонстрирующих перераспределение соотношения между человеком, миром и словом в том русле, которое задано акмеистами. Прежде всего, обратимся к сравнительно раннему стихотворению 1972 г. «Хорошо, когда истина рядом…». Приведем его полностью:
Хорошо, когда истина рядом!
И веселый нетрезвый поэт
Созерцает внимательным взглядом
Удивительный выпуклый свет.
И судьбу свою вводит, как пешку,
В мир – сверкающий, черный, ничей, –
Где модели стоят вперемешку
С грубой, черствою плотью вещей.
А слова тяжелы и весомы,
Будто силится твердая речь
Воссоздать голоса и объемы
И на части их снова рассечь.
Чтоб конец совместился с началом,
Чтобы дальше идти налегке,
Чтобы смертное слово звучало
Комментарием к вечной строке [Кенжеев Б. Из семи книг: Стихотворения. – М.: Издательство Независимая Газета, 2000. – 256 с., с. 36].
В этом стихотворении с почти схематической четкостью выстроена вышеописанная иерархия отношений между миром, словом и субъектом. Мир – «сверкающий, черный, ничей» – предстает как неоформленная, децентрированная, но, что особенно значимо, объективно существующая («ничья») субстанция. Некую иерархическую оформленность миру придает слово. Оно наделено свойством субстанциальности («слова тяжелы и весомы», и эти тяжесть и весомость слов выступают началами, синонимичными «грубой, черствой плоти вещей» – материи реального бытия) и обладает способностью и к созиданию, и к разрушению мира («воссоздать голоса и объемы и на части их снова рассечь»).
Такое функционирование слова в качестве «самодействующего начала бытия» и сообщает картине мира некую цельность («чтоб конец совместился с началом»). При этом в иерархии явлений слово как «самодействующая» сила оказывается подлинным субъектом бытия, оно первично, а слово «смертное», в том числе и слово поэта, занимает по отношению к нему такую же периферийную позицию, какую занимает сам человек в мироздании: в мир он «судьбу свою вводит, как пешку», и соответственно этой скромной роли, его слово – это тоже не более, чем маргиналия, «комментарий к вечной строке» (ср. с аналогичной иерархией Слова и слова у Седаковой, с ее метафорой человеческого слова на фоне вечного, как «свечки на свету»).
Автор: Т.А. Пахарева