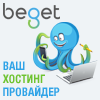Об актуальности для поэзии Кенжеева религиозного контекста и его связи с субъектным строем кенжеевской лирики следует сказать особо, не только в связи с интертекстуальностью. На наш взгляд, связь между субъектными особенностями поэзии Кенжеева и религиозной основой его мироощущения аналогична той связи, которую мы отмечали выше в творчестве поэтов-акмеистов: картина мира центрируется вокруг идеи Бога, а поэтический субъект занимает периферийную позицию в общей картине, реализуя в этой позиции идею христианского смирения, самоумаления.
Соответственно этому, в поэзии Кенжеева, как и у акмеистов, плодотворно разрабатывается не концепция поэта-теурга, хозяина собственного мира и слова, а концепция поэта – гостя на жизненном пире, который, по кенжеевской формуле, «всем… владеет, не властвуя» [Кенжеев Б. Из семи книг: Стихотворения. – М.: Издательство Независимая Газета, 2000. – 256 с., с. 130].
Отсюда – приятие и окружающего мира, и собственного слова как извне полученных даров, а не эманаций собственного «я». Но возникает в поэзии Кенжеева и образ подлинного хозяина бытия и слова, причем упоминания о Нем выдержаны в духе целомудренных заветов акмеизма – без попыток «оскорблять свои мысли о нем более или менее вероятными догадками». Так, например, характерен в этом смысле финал стихотворения «Выйдем в город – полночь с нами…»:
Шелест листьев в переулке,
запах хлеба и земли.
Только слышен долгий, гулкий
шепот Господа вдали,
мглистый голос без причины,
предпоследняя глава,
лишь слова неразличимы,
неразборчивы слова… [Кенжеев Б. Из семи книг: Стихотворения. – М.: Издательство Независимая Газета, 2000. – 256 с., с. 137]
Аналогичным образом в стихотворении «Есть в природе час…» сакральный источник слова персонифицируется
в виде загадочного «господина прописных и строчных». Но особенно значим в контексте темы, о которой идет речь, образ слова-рыбы у Кенжеева. Эта неоднократно повторяющаяся в его стихах метафора (см., в частности, такие стихи, как «Спят мои друзья в голубых гробах…» или «Если творчество – только отрада…»), конечно, апеллирует к традиционной ихтиологической символике образа Христа и одновременно к идее Бога – Слова, объединяя их. «Слова – золотая плотва» [Кенжеев Б. Из семи книг: Стихотворения. – М.: Издательство Независимая Газета, 2000. – 256 с., с. 162] – это метафора, которая у Кенжеева становится и напоминанием о сакральной природе слова, и указанием на роль поэта, который оказывается уподоблен не Творцу, а рыбаку (опять-таки, с учетом сакрального прототипа – «зоркого рыбака-назорея»).
Получается, что автометаописательная семантика этой метафоры слова-рыбы и поэта-рыбака вплотную сливается с семантикой религиозной, наглядно демонстрируя нерасторжимость начал творчества и веры в мироощущении Кенжеева.
Таким образом, тенденция к редуцированию субъекта в поэзии Кенжеева оказывается тесно связанной с религиозной основой его мировосприятия, и именно это обстоятельство, по нашему мнению, позволяет говорить о типологической близости субъектного строя кенжеевской лирики акмеистическому типу субъектности.
Автор: Т.А. Пахарева